|
|
Субботний религиозно-философский семинар с Эдгаром Лейтаном № 55
Религия и вера: опыт сопоставления категорий
| |
Жить по-христиански нельзя, по-христиански можно только умирать.
Архимандрит Софроний, Старец Силуан Афонский |
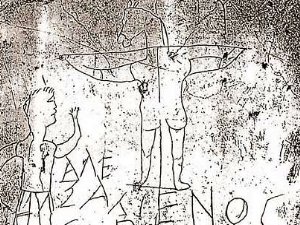 Вспоминая своё детство и юность, проведённые в самой счастливой стране на свете, в стране рабочих, крестьян и известной социальной прослойки, до сих пор не могу забыть одной особенности обучения в средней школе. Какая бы наука ни преподавалась, какая бы природная закономерность ни объяснялась на том или ином уроке, всеобязательным считалось в конце добавить: «Вот видите, дети, как всё закономерно в природе устроено. Никакого Бога для этого не надо!» Многие учителя и делали эту добавочку — иные скучно-рутинно, другие, как видно, по велению сердца.
Вспоминая своё детство и юность, проведённые в самой счастливой стране на свете, в стране рабочих, крестьян и известной социальной прослойки, до сих пор не могу забыть одной особенности обучения в средней школе. Какая бы наука ни преподавалась, какая бы природная закономерность ни объяснялась на том или ином уроке, всеобязательным считалось в конце добавить: «Вот видите, дети, как всё закономерно в природе устроено. Никакого Бога для этого не надо!» Многие учителя и делали эту добавочку — иные скучно-рутинно, другие, как видно, по велению сердца.
Вполне допускаю, что таково было в те времена обязательное, официальное заклинание, предписанное составителями учебных программ: всеми силами проповедовать атеизм, напирая на его «научность», и сокрушать отсталое религиозное мировоззрение. Уже позже, в некоем вузе, приходилось посещать такие странные предметы, как «научный атеизм» и, кажется, «научный коммунизм». На них вчерашним маменькиным деткам вбивалась в их неокрепшие головы подобная же премудрость, назвавшаяся к тому времени «основным вопросом философии». Что «первично» — дух или материя? «Учение Ленина (или Маркса? Пёс их знает, не помню...) всесильно, потому что оно верно», и — «практика есть критерий истины».
Насаждавшийся всюду в советское время вульгарный марксизм-ленинизм (слово «ленинизм» я в детсадовском возрасте производил от слова «лениться»; тогдашние детские этимологии отложились в памяти, заложив прочный фундамент будущей любви к бескорыстным языковым играм), как это ни парадоксально, заставил меня очень рано задумываться о философских вопросах вообще и об упомянутом «основном» — в частности. И правда — что там первично; правомерна ли вообще такая постановка вопроса? Меня гораздо больше интересовала не первичность или вторичность (которые я позже соотнёс с Булгаковской «осетриной первой или второй свежести»), а смысл того, что я оказался здесь, в этом мире, и почему имею возможность такие дурацкие вопросы задавать.
Помню, как в подростковом возрасте сохранившаяся с детства религиозная вера действительно вступила в уме в противоречие с общепринятой механистической картиной мира. Это противоречие я некоторое время ещё не умел основательно разрешить, но внутренне сделал явственный выбор в пользу веры, сознательно оставаясь в некотором раздвоенном состоянии ума. Тут следует сказать, что я от юности страстно увлекался естественными науками. Воссоздать утерянную гармонию между внутренней уверенностью, связанной с сердечным выбором, и привнесённой позже чужеродной картиной мира, было нелегко, но необходимо.
Вера была для меня тогда тем приключением духа, которое тем более захватывало, будоража ум и повергая в смятения чувства, чем явственнее была окутана таинственным ореолом романтики, связанной с сладким вкусом запретного плода. Уже значительно позже мне случилось приехать в европейскую страну, считающуюся католической: сколь причудливы изгибы путей, начавшихся с отроческого «приключения духа»! — объясняются ли они скрещением таинственных планид, стечением обстоятельств или же Божиим изволением — есть дело индивидуального истолкования, — оставляю его Читателю...
И тут, в Австрии, я довольно скоро обнаружил, что многое из того, что ассоциируется с Церковью, несёт на себе печать мертвящей казёнщины, что у меня некогда связывалось с пионерией и комсомолом. Церковные институции, традиционно будучи властными структурами, сохранили в той же Австрии или Германии многие из своих прежних привилегий, хотя и в менее явной форме. Имеются возможности силового воздействия на разного рода диссидентствующих или просто кажущихся такими. То, что решения всегда принимаются конкретными чиновниками, а никак не "Церковью«в богословском смысле, дела не меняет: в уме обывателей эти чиновники-наёмники и являются голосом Церкви. Pars pro toto, я бы сказал — часть, по привычке выдающая себя за целое. Побуждённый этими, в то время шокирующими, открытиями, я стал размышлять над соотношением «веры» и «религии»...
Не удивительно, что такая Церковь, всё ещё властвующая и по привычке властолюбивая, проповедует приверженность «ценностям». Здесь следует разобраться: ну что, казалось бы такого зазорного в слове «ценности», и не должна ли каждая религия именно что — проповедовать некие вечные ценности, противопоставив их нравственному релятивизму?
Если глубже поразмыслим над понятием «ценностей», то вдруг оказывается — ценности свойственны любому обществу — хоть основанному на уважении к Библии, хоть до мозга костей атеистическому (все мы, кому за 35-40, помним такой «моральный кодекс строителя коммунизма»). И для каждого общественного устройства характерна абсолютизация своих ценностей, которая, — о чудеса, — достигается противопоставлением их другим системам ценностей, лежащим вне границ «нашего». Чужие ценности объявляются злом или извращением. В этом смысле, думаю, нет никаких «общечеловеческих ценностей», идея которых так вдохновляет российскую интеллигенцию. Вернее, «общечеловеческие ценности» являются прекраснодушной абстракцией того же уровня нерефлексивного сознания, что и «свобода-равенство-братство» Французской революции. Последние закончились массовым применением гуманного аппарата доктора Гийотена. Мечтания чеховский интеллигентов, словно в кошмаре, обернулись миллионами летящей гулаговской щепы...
Марксист бы сказал: «Ценности имеют классовый характер». Я не марксист, но почти что соглашусь с этим гипотетическим марксистом. Только думаю, что вместо классов следует подставить «религию».
Любая развитая религия обладает набором традиционных ценностей, которая тем охотнее их культивирует, чем больше столетий или тысячелетий насчитывает она со времени основания, и чем более тесные отношения связывают её с властными структурами, иначе говоря — с государством и иными атрибутами «аппарата насилия». В качестве стандартного набора ценностей обычно с ходу называется: «крепкая семья», «дети», «неприкосновенность человеческой жизни»... Набор этот чем, вроде бы, очевиднее для всякого, тем обманчивее на поверку (однако, это отдельная, серьёзная тема для продолжительного разговора). Будучи спрошен о Божиих заповедях, всякий обыватель с ходу назовёт привычную формулу «не-убий-не-укради», по привычке же забывая или (что вероятнее) не зная, что первой заповедью в Моисеевом Десятословии объявляется любовь к Богу — «всем сердцем, всей душой и всем разумением».
Здесь мы подошли к самому существенному в цепочке наших рассуждений. Семья, дети, неприкосновенность человеческой жизни или чужого имущества (отнесённая прежде всего к «своим», в качестве необходимой поправки) и подобные им вещи — действительно суть «ценности», которые настолько же санкционированы религией, сколь и поддерживаются государством, по крайней мере на декларативном уровне.
Иначе — с «любовью к Богу», которая, если брать её абсолютно серьёзно, как она того и требует, может напрочь опрокинуть всякие ценности, в том числе самые что ни на есть религиозные. Если это действительно «любовь», никакими рациональными соображениями её не объяснить, а тем более не вызвать искусственно. Любовь к Богу может релятивировать ценность семьи, побудив человека уйти в пустыню и стать иноком, или ценность поколенческой гармонии («Враги человеку домашние его»!). Любовь-доверие к Богу смогла заставить Авраама оставить родину, а также поднять руку на своего первенца... Примеры из классических религиозных литератур можно приводить почти до бесконечности.
Религия всегда исходит из ценностей, она не может их не проповедовать. В этом смысле религия — кровь, а ценности — сосуды и даже костяк общества. Однако всякому организму свойственно стареть и умирать: обществам, империям, религиям. Костям свойственно ломаться, а сосудам — покрываться склеротическими бляшками... Религия утробно-тепла, она нежно обволакивает и убаюкивает, даёт ощущение безопасности и гарантированности «спасения»: нужно лишь соответствовать тому или иному предписанному стандарту. В своей горизонтальности религия не может обходиться без института священства как особой группы или даже касты посредников между мирским и священным (в религиоведческой терминологии; вспомним хотя бы классические труды Мирчи Элиаде).
В этом смысле примечательна, например, сама терминология, которую используют политики, например, в современной России. Говорят о «традиционных» то ли религиях, то ли конфессиях (подозреваю, что здесь в чиновных головах также царит обычная каша-размазня) и об их «культурно-исторической роли», но никогда не говорят о «вере»! И это закономерно, хотя вряд ли глубоко осознано. Религия великолепно подходит в качестве почвы и носителя «ценностей» большинства, с одной стороны. С другой стороны, она так же прекрасно сводится к идеологии, пригодной к манипулированию — системой обещаний потусторонних или земных наград и запугиваниями. Вера едва ли поддаётся объективированию, тем более юридическому.
Будучи «не от мира сего», вера граничит с религией своей сердечной теплотой, ибо на мгновения даёт полную уверенность. Но в следующий миг она уже готова обернуться ледяным холодом стратосферы, являя всю непостижимую инаковость Бога и всю хрупкую наготу Ему предстоящего конечного существа.
Для «религии» любое сомнение деструктивно и недопустимо, являясь как минимум лукавым помыслом или даже грехом. Для «веры» сомнение и неуверенность, отсутствие всяческой гарантии — непременный спутник, и даже необходимый. Религиозный человек — обычно добропорядочный обыватель, так же, как и «верующий» в повседневном смысле. Человек, рискнувший на юродство веры в живого, личного Бога (назовём его, за неимением лучшего слова, «мистиком»), оставляет в стороне, подобно вытрясенной пыли, болотные огоньки любых гарантий, в том числе и религиозных. И он смеётся над любыми религиозно санкционированными запугиваниями, по опыту зная реальную возможность «вечной погибели». По слову афонского старца Силуана, дошедшего до нас благодаря его ученику архимандриту Софронию, он «держит ум свой во аде, и не отчаивается».
Пасхальный «чудесный огонь», якобы самовозжигающийся в определённом месте и даже в строго определённое время (когда там во всеоружии современной техники присутствует телевидение) — типичное «религиозное чудо». Разоблачи вдруг кто-нибудь с несоменностью его рукотворность, чья-то религиозная вера намертво порушится, и получим мы обычных атеистов или простых материалистов, горько «разочаровавшихся в Боге». Оборотным свойством любой религии как раз и является «духовный материализм». Без материального сгущения веры (реликвий, красочной символики, пышной обрядности и прочего) религия чахнет в своей эмоциональности. Это обрядоверие — (возможная) теневая сторона католичества или православия. Наивное книговерие библейского фундаментализма, инфляционно замещающее собой разум с его правами — оборотная медаль многочисленных евангелических конфессий.
Вера мистика (в нашей рабочей терминологии) не нуждается в одобрении общины, как не печётся она и о грубо-материальных «чудесах» или о поре процветания для Церкви, долженствующей сменить гонения. Его не заботит «будущее Церкви», о котором нестройным хором, — каждый на свой лад, — голосят как церковные либералы, так и консерваторы, как «левые», так и «правые». Он знает, что «врата адовы не одолеют Её» — ему и довольно.
Вера требует этого хождения по бритвенному лезвию. Где она ослабевает или гаснет, то неминуемо превращается в религию. Положенный на тлеющие уголья ладан, испарив душистые вещества, начинает испускать душный смоляной чад... Это закономерно, как закономерно ожидать возрастную транформацию нынешней всем известной «светской львицы» в поборницу «православных консервативных ценностей».
Кажется, у Конфуция, — а может быть, у Лао-Дзы, — имеется выражение: «О законе начинают говорить там, где возобладало беззаконие, а о морали — там, где позабыты нравственные устои». Так же и о «традиционных ценностях» религиозно-верующий более всего начинает заботиться, когда на место юродства и риска голой веры, веры как приключения — встают каноны с их запретами и дозволениями.
С точки зрения логики оформленной религии не должны удивлять высокие государственные чиновники, стоящие со свечками в «Спасе на гаражах» (так неблагочестиво, зато метко-иронически некоторые именуют храм Христа-Спасителя), при этом рьяно защищающие смертную казнь или даже «уничтожение» людей без суда и следствия. Религия допускает «мочение в сортире» врагов.
С позиции этих декларативно-религиозных, облечённых реальной земной властью людей вера мистика не может быть ничем иным, как опасным «экстремизмом». Просто потому, что там своя «вертикаль», в ничто вменяющая все прочие властные вертикали вместе с их ценностями и не нуждающаяся в посредниках и дешёвых гарантиях.
26.05.2010
Теги: воспоминания
религиоведение
религия
христианство
|
Ваш отзыв автору
|
|
|
