
 |
||||||
Козинцев ГригорийПЕТЕРБУРГСКИЕ ПОВЕСТИсценарий
Публикация в интернете подготовлена при помощи Анны Чайки текст впревые опубликован в "Искусство кино" в 1973 г. |
||
От автора Постановка "Петербургских повестей" Н. В. Гоголя менее всего может быть отнесена к так называемым "экранизациям" или "историческим" фильмам. Существо гоголевской образности никак не может быть отнесено к чему-то "историческому", любопытному для нас антуражем — курьезностью нравов и карикатурностью типов давно ушедшего прошлого. Интерес этот прежде всего остросовременен. Речь идет, разумеется, не об "осовременивании" классики — злободневной перекличке отдельных ситуаций или фраз. Сила этих произведений в глубине мыслей и чувств; в мощи предвидения тех исторических процессов, тех конфликтов, решением которых занята наша современность; эти противоречия Гоголь смог уловить уже тогда, когда они лишь начинались, были видны только в зачатке. Не в жалости к "маленькому человеку", "меньшому страдающему брату" смысл "петербургского цикла", а в страсти отрицания, гневе против "внешней цивилизации", общественного строя, основанного на неравенстве, корысти. Воспроизвести, сделать реальными на экране нужно не только характеры, мысли и чувства действующих лиц, но прежде всего главного героя — автора. Фильм понимается как симфония, где присутствуют основные темы, стихии гоголевской образности: совершенная натуральность и фантасмагория, комедийное и трагическое. [...] Мне представляется необходимым восстановить на экране весь размах гоголевского замысла, показать "громаднонесущуюся жизнь", силу его "грозной вьюги вдохновения". Фильм должен ставиться в тесном сотрудничестве с Дмитрием Шостаковичем, автором будущей партитуры для него. Возможность осуществления такой работы связана с применением всех современных технических средств съемки. Григорий Козинцев |
||
Последние годы жизни Григорий Михайлович Козинцев посвятил Н. В. Гоголю, разработке фильма по "Петербургским повестям". Мы публикуем часть обширных материалов его "Гоголиады" — незавершенный сценарий "Петербургские повести". К сожалению, по техническим причинам нам не удалось воспроизвести многочисленные пометки, сделанные автором на полях его сценария. |
||
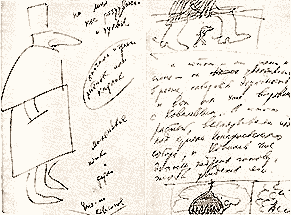
рисунок Г.М.Козинцева |
||
Пролог Метель несется над русской землей. Вихрь клонит огромные деревья, черный лес несется навстречу, летят белые хлопья, встает на пути шлагбаум, выползли темные фигуры: поднялась полосатая палка, и вот уже вырастают силуэты зданий, смутно видные купола церквей, дома на окраине, и одни только белые пятна кружатся, расплываются, теряют очертания. К белому примешивается что-то темное тоже пятна, они так же движутся, но в них возникает, сгущается цвет, они сливаются в общие тона, возникают переходы, оттенки Краски, теперь отчетливо видимые, выдавливаются из тюбиков на палитру художника; прикосновения кистей, мазки ложатся на холст. Это не начало работы; картина уже почти закончена, теперь художник занят последней отделкой. Целого нельзя увидеть - полотно возникает только частями, небольшими фрагментами: в нижнем углу картины усиливаются красные тона, определяются складки, восточный орнамент ткани; темная старческая рука; морщина пересекла лоб; насупленные брови, один только глаз... Сам процесс живописи, напряженных усилий художника проходит на экране. Все новые детали появляются на полотне, особое внимание отдано глазам. Легкие прикосновения кисти делают взгляд живым. И вдруг быстрая кисть, занесенная для прикосновения к холсту, останавливается, замирает: художник почему-то прекратил свой труд. Слышится негромкий, прерывающийся голос: — Что это... отчего же это неприятное чувство?.. Секундная задержка, и опять кисть принимается за дело. Вновь увлекается художник: в неуловимых оттенках тонов, легчайших прикосновениях кисти глаза модели кажутся еще более живыми: уже мельчайшие анатомические подробности создают иллюзию натуральности *. Глаза приближаются, становятся более крупными, теперь в них зажигается какой-то мрачный огонь. И опять замирает кисть. — Но ведь это, однако, натура, — слышится взволнованный голос, — это живая натура. Он ведь был именно таким, как раз таким, когда я писал его... Кисти падают на табурет. — Опять то же чувство... Что со мной? * На полях: "Все дело в том, что это не только портрет, но и "все на свете". |
||
Палитра: выдавленные из тюбиков краски. Мазки на палитре расплываются, теряют очертания, к темным пятнам примешиваются белые, цветные исчезают, и одни только светлые пятна кружатся на экране — несется над городом метель; плетутся замерзшие прохожие, смутно видно, как несуразные верзилы в помятых цилиндрах волокут в открытую калитку высокого забора какой-то ящик. Лают осатанелые псы, слышна ругань: |
||
— А чтоб его, окаянного, чтоб ему и в могиле покоя не было, — кричит бешеным голосом какой-то человек с измученным нуждой лицом, одетый в истертое платье. — Пусть его сам дьявол... — грозит кулаком неведомо кому нищая старуха, — это он меня пустил по миру... — Да есть тут хоть кто-нибудь, чтобы вас всех... — хриплыми голосами перекрикивают всех люди, тащущие ящик. Вновь всплывают цветные пятна, мазки красок еще более яркие; унеслась метель, пропало все белое, — прикосновения кисти к холсту, детали орнамента на ярко-красной восточной ткани, рукав халата, из которого высовывается темная, старческая рука с набухшими венами. И разом портрет поворачивают изнанкой; на экране один только обычный холст, натянутый на подрамник. Немолодой человек с исхудавшим лицом, на котором светятся большие, полные глубокой мысли глаза: художник-самоучка из простого народа ходит по комнате. Сцена снимается крупными планами, и, кроме лица, деталей портрета, видны лишь части обстановки, блузы живописца, перемазанной красками, плоскости дубового стола, на котором лежит краюха хлеба. — Я ведь не лгу, не придумываю... — живописец ведет сам с собой мучительный разговор, — Это ведь живое лицо, такой, как раз такой он был, когда пришел ко мне... Разве подражание природе есть уже проступок?.. Он пьет воду из кружки, садится за стол: — Но почему же простая, низкая природа является у одного художника в каком-то свету, — говорит он, все больше волнуясь, — и не чувствует никакого низкого впечатления, а у меня она предстает не озаренная светом какой-то непостижимой... скрытой во всем мысли... Портрет стоит на подставке мольберта, изнанкой, живописец подходит к нему и поворачивает картину лицом к себе: всматривается в изображение и вдруг резким движением снимает картину с подставки и несет ее к печке. — Нет, тут что-то неладное, — шепчет он, быстрыми движениями размешивая кочергой угли, подбрасывая дрова. — Это уже и не искусство... — он начинает отдирать полотно от подрамника. Разгорается пламя. — Постой! — приятель живописца, веселый и жизнерадостный малый, стоит на пороге. Его шапка и пальто занесены снегом, лицо еще мокро. — Да остановись же! Чего ты делаешь? Что собираешься жечь?.. Он отбирает у художника картину. — Помилуй, — вглядывается он в полотно, — это одно из лучших твоих произведений. Никак это Петромихали?.. Да, он самый... не то индеец, не то грек. Тот, что, говорят, какие-то особые проценты дерет, такие, что ни одна живая душа от него живой не уходит. — Он с восхищением рассматривает картину. — Да это совершеннейшая вещь!.. — Нет, друже Аполоне, тут что-то не так. Я и писал его с отвращением. Мне и мысль о нем в голову не приходила, я все о "Страшном суде" для церкви думал. И все у меня рожа князя тьмы не получалась, ну никак я ее придумать не мог... И как раз, будто нарочно, приходит этот самый ростовщик в своем азиатском халате портрет мне заказывать; ну, думаю, вот и модель... — Ты ему просто попал не в бровь, а в самые глаза залез, — восторженно перебивает его молодой человек. — Какое-то смутное чувство мучило меня, — продолжает живописец, — однако же я увлекся, положил себе добиться совершенного сходства с натурой. Но тягостное чувство усиливалось; я насильно хотел покорить себя и, бездушно заглушив все, быть рабски верным природе. — Да тебе одни глаза как удались! — не слушает его приятель. — Так в жизни никогда не глядели глаза, как они глядят у тебя. — А вот я посмотрю, как они будут глядеть в огне, — художник отбирает у приятеля картину и начинает дальше отдирать кусок холста с написанной на нем яркой тканью халата, чтобы бросить портрет в печку. — Остановись, ради бога! — вырывает полотно из рук художника приятель. — Отдай его лучше мне, если он тебе до такой степени колет глаза. Я ведь, брат, богомазом стать не собираюсь и в чертей не верю. Светлеет лицо художника: недавний смутный страх исчез, кажется ему уже ребяческим. — Какие уж на Невском черти с копытами! — Он смеется, и к его смеху присоединяется и живописец. — Придумал, брат, — хохочет молодой человек, — ведьма верхом на помеле над Литейным проспектом летает. Оба смеются от души. — Нынче и малые ребята над всеми этими побасенками смеются. Снег крупными хлопьями падает на маленькие дома, покосившиеся заборы Коломны. Мимо сугробов, идет веселый молодой человек и бережно несет только что полученный им подарок. Портрет завернут в полотно, но нижний край картины остался незакрытым: орнамент восточной ткани халата неестественно ярко горит на заснеженном фоне. Мороз. Пар валит изо рта. Мелкой трусцой пробегают прохожие, нахлобучив на уши шапки и подняв воротники. Молодой человек, бережно прижимая к себе картину, от души хохочет, вспомнив суеверие живописца; он чуть не налетает на странную фигуру. Подвыпивший малый, укутанный поверх черной хламиды байковым одеялом, в высоком помятом цилиндре, криво напяленном на голову, повязанный бабьим платком, приплясывает на месте, чтобы согреться; в такт своему танцу он время от времени бьет одной о другую руками в больших вязаных рукавицах. Толпа собирается подле забора, за которым чернеет странное здание. — Что случилось? — спрашивает молодой человек. — Да ничего не случилось, — продолжает свой пляс фигура в несуразном траурном одеянии. — Петромихали, процентщик, помер, вот и дожидайся его тут, чтобы его нелегкая взяла!.. — Чтобы ему часа покоя на том свете не было! — кричит, размахивая кулаком, длинный и тощий нищий, - это он меня по миру пустил! — Бог миловал — никогда с ним дела не имел. А уж кто имел — тому конец. Он ведь и проценты сперва небольшие просил, только знал он какую-то чертову арифметику: проценты росли на проценты, неустойки на просрочки, и не было человеку, кто хоть раз взял у него медный грош, выхода. — А деньги его были проклятые... Кто взял их в руки — крышка. — Конец душе человеческой... — Постойте, да о ком это разговор идет! — О дьяволе?.. — Братцы, — проталкивается в толпе какая-то нелепая фигура, — правильно сказывают, что здесь Наполеон Бонапарте инкогнито жил, а теперь взял и богу душу отдал. — Постой, откуда Наполеон? Нет, сказывают, что поймали здесь атамана разбойников... — Сюда! Скорей беги!.. — кричит бегущий по переулку малый, — говорят, пожар начался. — Истинно говорю вам, — поднял руки юродивый на паперти, — опомнитесь, грядет суд божий, день суда и покаяния. — А ну, раздайся, — орут гробовщики, волокущие гроб сквозь все прибывающую толпу, — боком, боком его волоки! — Тяжелый, черт... Фигуры в нахлобученных цилиндрах тащат из калитки гроб. — Но, милые! — забирается на облучок возница и дергает вожжи. — Просыпайтесь, залетные!.. Странная процессия — приплясывающие факельщики, дроги с гробом, за которым никто не следует; причмокивающий и помахивающий кнутом возница, понукающий своих кляч - пропадает в снегопаде. И только один ярко-красный угол картины - восточная ткань халата, с удивительным искусством изображенная живописцем, — маячит сквозь белую пелену: портрет отправляется дальше, мимо занесенных снегом домов церквушек Коломны, мимо мелькнувших вывесок, где изображен то один лишь сапог, то сюртук без человека, то нехитрые инструменты цирюльника и слова "и кровь отворяет", дальше — в далекое путешествие, мимо уже более видных улиц, переулков, проспектов, мостов — столицы империи. Снегопад усиливается, и все становится неясным, зыбким, смутным. Нет уж нигде ничего живого, все занес снег, и звуки тоже умолкли. И тогда в гулкой тишине слышится сильный, одушевленный волнением голос: — ...В дорогу!.. — Эхо из далеких проспектов I откликается на слова, и переулки разносят их последние отзывы, — в путь, вслед за моими странными героями, за судьбами их, которые, может быть, и покажутся неправдоподобными... Которых, может быть, нигде на ссвете и случиться не могло бы... Нигде, кроме как в северной столице нашего обширного государства. Но какие только происшествия здесь не случаются. Нет, правда, таких происшествий положительно нигде случиться не могло бы... Пауза. — И все же, однако, что там не говори, а все-таки... Ветер взметнул снег, темная витрина какой-то лавки на мгновение приблизилась, возникла отраженная в стекле надпись: Портрет |
||
Протяжная, хватающая за душу народная песня. Движется темная вода, потом появляется борт старой деревянной баржи, глиняные горшки, наваленные горой; бородатый мужик сидит подле своего товара, привезенного в столицу на продажу; мальчик у руля вторит песне. Встают из воды гранитные берега, в обычный слякотный день торопятся по своим делам прохожие, крылатые звери сторожат мосты, канючат нищие, баржа въезжает в темный пролет. Удаляется песня — стонущая, широкая, такая, которой звучать бы над просторами земли, а не под хмурым петербургским небом. Люлька штукатуров подымается над ростральной колонной, видна огромная голова скульптуры, кисть маляра грунтует ее. Идет мимо тяжело груженных телег артель штукатуров. Чиновник — небольшого роста, такой же невзрачный, как обшарпанные дома, мимо которых он проходит, такой же бесцветный, как все вокруг, мало отделимый от всего неодушевленного — идет семенящей походкой на службу. Мастеровые, устроившись на подвесной доске, прилаживают огромные буквы какой-то вывески, маляр подновляет букву "ять", он стряхивает свою большую кисть, и краска марает плечо проходящего чиновника; никто не обернулся, и сам он не обращает внимания на вымазанную одежду. Возница вяло помахивает кнутом, бурчит что-то нелестное по поводу своей клячи и сворачивает за угол. В вестибюле департамента зевающий швейцар застегивает ливрею и открывает дверь парадной; первым входит маленький чиновник, потом появляются и другие. Маленький чиновник проходит никем не замечаемый; никто не отвечает на его поклоны; он сам вешает свою плохонькую шинель на вешалку. Шаркают ноги, слышны неясные реплики: — Доброго утра, Александр Иванович!.. — Крахманову награда! А? Петрушке Крахманову!.. — А Бурдюков? Да, он Павел Петрович Бурдюков произведен, а? Каково?.. — Как здоровье ваше, Петр Сергеевич? — Поутру было немного холодновато. Однако я имею обыкновение носить фуфайку... — Это Петрушка-то Бурдюков, господи!.. Шуршат бумаги, скрипят перья. Единообразные фигуры склонились над столами. Невзрачный чиновник устраивается за своим столом. — А правда ли, Акакий Акакиевич, — приготовились разыгрывать его молодые чиновники, — что состоится ваша свадьба с квартирной хозяйкой? — Нет, как это, — запинаясь, растерянно отвечает он, — может быть, это вы уж, того... Прыскают молодые люди. — Башмачкин, — сухо окликает его помощник столоначальника и, не глядя, придвигает на стол пачку бумаг, — к переписке. Утренний шум большого города: дребезг колес по булыжникам, кашель, простуженные голоса, гудки и возгласы с реки, козлиный дребезжащий выкрик разносчика: — ...Старого платья продать... Панорамой проходят крыши Васильевского острова. Открывается окошко чердака. Милое, еще детски-простодушное лицо высовывается наружу. Под белым петербургским небом, среди мокрых от сырости крыш и чуть дымящихся труб кажется странной улыбка Пискарева — мечтательный взгляд, которым он оглядывает город, баркасы с крытым дощатым верхом, плывущие по реке, работающих каменщиков, штукатуров, грузчиков. Опять доносится издалека стонущая, протяжная песня — она казалась бы естественной среди просторов полей и широких рек, но не здесь под низким, серым небом, среди темных камней и бронзовых изваяний. Суровая, хмурая гамма города сменяется серебристо-голубыми очень светлыми тонами — на стареньком мольберте стоит картина, еще только начатая художником; в наметках облика молодой женщины, склонившейся над ребенком, есть что-то от мадонн раннего Возрождения; видно, что Пискарев провел немало времени в Эрмитаже. Нагнувшись под бельем, развешанным на веревке — сам художник занимается стиркой, — Пискарев, захватив ящик с красками, выходит на обшарпанную лестницу; по дороге вниз он колотит кулаком в одну из дверей: высовывается заспанная, лохматая голова. — Опять проспал? — укоряет соседа Пискарев, сбегая вниз. — Проспал, ей-богу, проспал, — доносятся сверху торопливые слова Чарткова. — Никита, воды, быстро... Плывут баржи с дровами; из темной воды встают огромные каменные сфинксы; молодые люди с папками и ящиками с красками входят в двери императорской Академии художеств. Продолжение бесконечных споров: — И все-таки природа... — Но, как не говори, без высокой мысли... — Однако и портрет ничтожнейшей старухи способен стать исторической живописью... — Видели мы эти римские баталии на полотне во всю стенку. — Ну и загулял же я вчера, братцы... — Только попробуй выставить такие сюжеты, да тебя так засмеют... — А пусть их смеются, — вступает в разговор высокий и нескладный Копьев, похожий больше на мастерового, чем на служителя муз, — не в гостиные понесу я мои картины... — И ты думаешь, что выиграешь, получишь что-нибудь? — догоняет компанию Чартков повязывая на ходу франтоватый платок на шее, плохо идущий к его потертому платью: — Да ты получить завидное право кинуться с Исаакиевского моста в Неву, а труды твои первый маляр, накупивши их на рубль, замажет грунтом, чтобы — нарисовать на них... |
||
Миновав коридор, они входят в классы Чартков мгновенно и ловко изображает на подвернувшемся картоне рожу. Общий смех. Гремит колокольчик — начало занятий. Модель — бородатый мужчина не первой молодости — скидывает рубашку и принимает позу дискобола. Профессор, художник старшего поколения ходит между мольбертами, подправляя своей рукой работы. Мертвые копии академической школы, попытки уловить черты натуры, долгое обдумывание, быстрый рисунок — разные дарования. Пискарев, только набросав модель, отвлекается от нее: поверх дискобола появляется абрис женского лица, которое он старался передать на картине, оставшейся на его чердаке, серебристо-голубые и синие тона одежды, неба. Профессор останавливается у одного из мольбертов: — Смотри, Чартков, — говорит он, — у тебя дь талант; грешно будет, если ты его погубишь- Но ты, как бы это тебе объяснить, нетерпелив, что ли... Несмотря на день, тусклым светом горят лампы, чадит печка, голый мужчина с усталым лицом, мало похожий на античного атлета с трудом сохраняет принятую позу. — Гоняешься за тем, — продолжает профессор, — что бьет на первые глаза. Оно заманчиво, можно пуститься писать модные картинки. Да ведь на этом губится, а не развивается талант. Терпи. Обдумывай всякую работу. Пискарев снимает мастихином синие и голубые краски с полотна, опять появляется фигура натурщика. Тащатся по улицам телеги; конец рабочего дня: мужики в вымазанных известью сапогах заходят в подворотни, откуда доносится чад и гарь; так же канючат на паперти нищие. — Да, терпи, — жалуется товарищам Чартков, компания художников расходится по домам. — Терпи! А на какие деньги я завтра буду обедать? Взаймы ведь никто не даст. — Ну что же, брат, — ухмыляется Копьев, — остается одно: отыскать Мавромихала. — Это еще что за личность такая? — Да, помню, в детстве, рассказывал мне один старик богомаз, — продолжает он, — будто жил-был какой-то Мавромихал или, может, Петромихал — не то грек, не то персианин, уж не помню кто. Любые деньги давал он художникам взаймы, а за то уж проценты... — Слышал я такие побасенки, — прерывает его Чартков, — и как черт тень покупал и как душу дьяволу закладывали. Да ведь все это, друзья, побасенки, а вот где деньги на обед достать? — А ну, погодите-ка, — вынимает свой походный альбом Копьев и берется за карандаш, вглядываясь в черты нищего. Порыв ветра вместе с дождем. Прохожие раскрывают зонтики или укрываются в подъезды. — Слушай, отец, — уговаривает нищего Копьев, — пойдем-ка ко мне, — я тебе, ну понимаешь, нарисовать хочу, художник я... — Подайте бедному на пропитание... — продолжает той же интонацией нищий. — Денег у меня, отец, нет, но тарелка щей найдется. Пошли? — Покорнейше вас благодарю, господин хороший, — это предложение нищему понятно, — дай вам господи... Чартков и Пискарев забрались под арку Щукина двора. Идет торговля рухлядью. Тут все, что вышло из употребления, стало хламом: стулья без спинки, трехногие, без сидений, самовары с вогнутыми боками, часы без стрелок, драные сапоги, изношенное платье. Хрипят гармоники, визжат шарманки, кричат на разные лады торговцы, расхваливая свой товар. Приятели оказались подле лавки картин. У входа висят связки лубков. Пискарев перебирает листы, улыбается. Шарманка, играющая вдали, испорчена; визг польки вытесняется хрипом прусского марша, такты чувствительного романса без перехода сменяются барабанным галопом. Краски, которыми щедро украшены народные картинки, неестественно ярки на фоне обычного дня — деревенскому живописцу полюбился лиловый, вот он и мазнул им разок по купцу в поддевке, куску неба и крыше с трубой, из которой тот вылетает, устремившись за модницей в юбках, задранных от ветра; желтой полосой пересечен цирюльник в штанах в небывалую клетку, угрожающе занесший бритву над клиентом; розовое пятне расплывалось по огромному Носу, обряженному в кургузое пальто, из-под которого выглядывают тощие и коротенькие ножки; Нос гуляет по городской площади с колокольней. Лихо взыграла гармонь. Надпись на лубке "Береги нос в большой мороз". — Тут бы вернее написать, — говорит Пис карев. — "Тому виднее, у кого нос длиннее" Кричат торговцы, исполняет свое попурри шарманка; художники переходят к другому товару: тупые копии пейзажей, жанровых картинок, женских головок. — Что народ заглядывается на Ерусланов Лазаревичей, на Фому и Ерему, — говорит Чартков, — не удивительно. Но где покупатели этих малеваний? Кому нужны эти пейзажи?.. Какое-то притязание на несколько уже высший шаг искусства и глубокое его унижение. Ремесленные изделия безымянных живописцев. — Тупоумие, бессильная, дряхлая бездарность, — возмущается Чартков, — те же краски, та же манера, та же набившаяся, приобвыкшая рука, принадлежащая скорее грубо сделанному автомату, нежели человеку!.. — Вот за этих мужиков и за ландшафтик возьму беленькую. — Возле художников оказывается хозяин. — Живопись-то какая! Просто глаз прошибает; только что получены с биржи; еще лак не высох. Или вот зима, возьмите зиму! Пятнадцать рублей, — расхваливает он свой товар. — Прикажете связать их вместе и снести за вами? Где изволите жить? Эй, малый, подай веревочку. Напуганный энергией владельца лавки, Пискарев, улучив момент, скрывается. Хозяин начинает упаковывать картины. — Постой, брат, — останавливает его Чартков, — не так скоро. А вот постой, я посмотрю, что у тебя здесь делается, — он отходит в глубь комнаты. Кричат торговцы, заливается гармошка. Художник достает с полу наваленные, запыленные старые картины: старинные портреты, от которых мало что осталось, облупившиеся рамы, темные, подранные холсты. — Сюда, батюшка, вот картины! — зазывает с улицы хозяин, — зайдите, зайдите; с биржи получены; еще лак не высох... Никто не откликается на его призыв, и он идет к соседней лавке, подле которой стоит другой промышленник. Дождь уже прошел. Чартков наклонился над запыленной картиной. Под густым слоем грязи смутно видно лицо старика азиата. Он пробует стереть пыль: чуть проступает цвет восточного орнамента — рукава халата, темная кожа руки. Чартков выносит портрет из глубины лавки к выходу, на дневной свет. Проходившая мимо баба с покупками останавливается позади Чарткова. Повизгивает вдали шарманка, зазывают торговцы. Чартков вынимает из кармана платок и опускает его в стоящую подле дождевую бочку. Мокрая тряпка проходит по лицу портрета И сразу же слышится бабий крик. Обернулся Чартков. — Глядит, глядит! — вскрикивает женщина, — ей-богу, глядит!.. Божась и крестясь, она пятится, пропадает в толпе и показывается опять на улице, все еще открещиваясь. Развеселившийся Чартков провожает ее взглядом и, продолжая посмеиваться, оборачивается к картине. Улыбка пропадает с его губ. Какое-то смутное, неприятное чувство овладевает им. Постепенно стихают, как бы удаляются звуки рынка. — Что, батюшка, выбрали что-нибудь? - опять послышались все звуки повседневной жизни; хозяин стоит подле Чарткова. — А что же, возьмите портрет, — говорит он, увидев предмет внимания художника. — А сколько? — спрашивает тот, без особого интереса. — Да, что за него дорожиться? Десять рублей давайте! Чартков, не отвечая, покидает лавку. — Ну, да что ж дадите? — Трешку, — говорит Чартков, чтобы отвязаться. — Эк, цену какую завернули! Да за трешку одной рамки не купишь. Видимо, завтра собираетесь купить?! Господин, господин, воротитесь, — догоняет Чарткова уже на улице. — Гривенничек хоть прикиньте. Возьмите, возьмите, давайте деньги. Право, для почину только, вот только что первый покупатель. Так уж и быть, пропадай картина. Возвращаются со службы чиновники *, плетутся извозчики. Чартков идет по набережной с картиной под мышкой. * На полях: "Башмачкин". |
||
— Зачем я его купил? — бормочет он на ходу. — На что он мне?— досада и ощущение пустоты охватывают его. — Черт побери! Гадко на свете!. Картина скользит у него под рукой, он пробует нести ее на другой манер, но все неудобно. Порыв ветра. Художник минует длинный и узкий переулок, вдали идет, чуть приплясывая, какая-то темная, смутная фигура с лесенкой на плече. Фонарщик появляется за спиной Чарткова — видна его вымазанная маслом и копотью одежда, — он прислоняет лесенку к фонарному столбу. Смутные огни возникают в сумерках. Все приобретает какой-то призрачный характер. Отблески огней отражаются в мутной воде каналов, на крыльях зверей, сторожащих мосты. Громады зданий расплываются, отбрасывают тени, открываются двери в освещенные подъезды. Чартков останавливается. Совсем иной город возникает перед художником. Нет деталей, одни только темные массы соборов, силуэты решеток и мостов. Движутся, пересекаются тени, возникают новые оттенки. Плохая упаковка картины разорвалась: виден угол портрета — часть опрокинутого вниз головой лица, один глаз. Чартков тащит портрет мимо проходных дворов, штабелей дров, помойки, на которой мяукают коты; он поднимается по грязной, щербатой лестнице дома на пятнадцатой линии Васильевского острова. Он спотыкается на мокрых ступеньках. За одной из дверей, обитых рваной клеенкой, жилец разучивает на трубе одну и ту же короткую музыкальную фразу. Чертыхается измученный Чартков. —Свечу, — говорит он, входя в свою унылую мастерскую. — Свечи нет, — зевает его слуга Никита, взлохмаченный, только что очнувшийся от сна. — Как нет? — Да ведь и вчера не было, — Никита принимает от барина его жалкое пальто. — Да вот еще, хозяин был. — Ну, приходил за деньгами? Знаю. — Да он не один приходил. — С кем же? — Не знаю с кем... какой-то квартальный. — А квартальный зачем? — Не знаю зачем, говорит, что за квартиру не плачено. — Ну что ж из того выйдет? — Я не знаю, что выйдет, он говорит, коли не хочет, так пусть, говорит, съезжает с квартиры, хотели завтра еще прийти оба. — Пусть их приходят. |
||
Ночь. Мастерская, тот же беспорядок. Валяются гипсовые слепки, начатая картина — головка Психеи. Храпит на все лады в своей каморке Никита. Чартков лежит на ободранном диване, накрывшись пальто. Холодно, изо рта идет пар. Из-под оборванных углов клеенки торчит вата, вылезают пружины. — Терпи, терпи... — бормочет художник. — Понеси я продавать все мои картины и рисунки — за них мне за все двугривенный дадут. Выползают из щелей тараканы. В углу шуршат и скребутся мыши. Тараканы ползут по стене. Бормочет Чартков: — Да и кто купит, не зная меня по имени... Зачем я мучаюсь и как ученик копаюсь над азбукой, тогда как мог бы блеснуть не хуже других и быть таким, как они, с деньгами. Храпит слуга, ползут тараканы, быстро пробежала за наваленными бумагами мышь Тишина. — Господи, — печально говорит Чартков, — да есть ли на свете судьба более жалкая, чем художника. И вдруг он вздрагивает, прислушивается будто кто-то его позвал. Но, кроме обычных звуков ночи, ничего не слышно. Чартков оглядывается кругом: та же торчащая из дыры пружина, белеют гипсовые слепки, неоконченные эскизы. Он встает с кушетки и ходит по комнате, укутавшись старым пальто. И опять, как бы что-то услышав, он оборачивается — ничего кроме хорошо известных предметов. И вдруг он вспоминает о портрете. Где он? Купленная картина стоит прислоненная к стенке, покрытая тряпкой. Чартков подходит к своей покупке. То же неприятное чувство овладевает им. Он стоит подле закрытой тряпкой картины и вскрикивает. Лица старика больше нет, нет и самой картины: за разбитой, облупившейся рамой - дыра: то, что было живописью, созданием художника, размывается, распадается на смутные, чуть колеблющиеся мазки, уходящие в центре в глубину, тьму. Видение этой засасывающей дыры мелькает только одно мгновение. На лице художника выступает пот, ему разом стало жарко, он переводит дыхание. И тогда в комнате слышится чуть уловимый звук: легкий стук пальцев по стеклу. Тяжело дыша, художник вглядывается в окно. За стеклом медленно выступает кусок восточной ткани, и пятно пропадает. Чартков бросается к окну: никого нет. Он раскрывает окно и замирает. Старик азиат в восточном халате, накинутом на нижнее белье, сидит на крыше, подвернув под себя ноги. Огромный город лежит под ним, монументы императоров на пустых площадях, колонны и статуи. В старике нет ничего призрачного: халат, стеганный на вате — старый и потертый, материя местами расползлась, вылезают куски грязной подкладки; так же изношены и шлепанцы на ногах. Во всем его облике что-то гадко бесформенное, плюшкинское. Он неторопливо залезает в карман халата и темной, старческой рукой достает пригоршню червонцев; он начинает считать их, все время прибавляя к сумме еще какие-то проценты. Над столицей империи слышится однообразный негромкий звон денег, старческое бормотание — одни только цифры, вычислительные термины, итоги сложно растущих сложений и запутанных умножений. Статуи стоят строем на крыше Зимнего дворца, замерли бронзовые императоры; сверху донизу увешаны фасады огромных домов вывесками торговых заведений. Мерно позвякивают деньги, бормочет старик азиат. Квадриги бронзовых коней; кариатиды подпирают балконы, горят огни над ростральными колоннами. И тот же мерный, однотонный звон, бесконечное нагромождение фантастически нарастающих процентов: — ...Тысяча двести плюс три тысячи пятьсот... пятнадцать процентов на тридцать равняется... плюс двадцать три процента продленных... на тридцать четыре годовых... сто восемьдесят тысяч плюс... И ничего рядом не стало. Все сгинуло, к. морок. Те же грязные каналы на рассвете, и плывут баржи с товаром на продажу, и где-то далеко не то поют, не то плачут, лежа возле своих товаров, бородатые мужики, дети в домотканых рубахах. Песня чуть взметнулась, на высокой стонущей ноте и ушла вдаль. За окном уже свет. Крыши Васильевской острова, низкое хмурое небо. Неубранная комната, сырость в самом воздухе. Художник в пальто, наброшенном поверх мятой рубахи, сидит на диване. Медленно бродят бесцветные, унылые фигуры квартального и домохозяина: — Извольте сами глядеть, Варух Кузьмич, вот не платит за квартиру, не платит. — Что ж, если нет денег? — еще не отойдя от сна, бормочет художник. — Подождите, я заплачу. — Мне, батюшка, ждать нельзя, — повышает голос домохозяин. — У меня вот Потогонкин подполковник живет, семь лет уже живет; Анна Петровна Бухмистерова и сарай и конюшню нанимает на два стойла, вот какие у меня жильцы. У меня, сказать вам откровенно, нет такого заведения, чтоб не платить за квартиру. Извольте сейчас же заплатить деньги, да и съезжать вон. Квартальный без какого-либо выражения на лице разглядывает картины: — Да, уж если порядились, так извольте платить. — Да чем платить, вопрос, — вяло отвечает Чартков. — У меня теперь ни гроша. — В таком случае удовлетворите Ивана Ивановича издельями своей профессии, - перебирает наброски квартальный. Картины, большей частью недоконченные. наброски углем и сепией. Слышен голос квартирохозяина: — Нет, батюшка, за картины спасибо. Добро бы были картины с благородным содержанием, чтоб можно было на стенку повесить, хоть какой-нибудь генерал со звездой или князя Кутузова портрет, а то вон мужика нарисовал, мужика в рубахе. Вечно заспанный слуга появляется возле собственного портрета. — Еще с него, свиньи, портрет рисовать; ему я шею наколочу: он у меня все гвозди из задвижек повыдергивал, мошенник. — Вот посмотрите, какие предметы: вот комнату рисует. Добро бы уже взял комнату прибранную, опрятную, а он вон как нарисовал ее со всем сором и дрязгом, какой ни валяется. Проходящие по лестнице люди, дворник, кухарка с кошелкой, остановились на площадке, услышав громкие голоса. — Вот посмотрите, как запакостил у меня комнату, изволите сами видеть. Да у меня по семь лет живут жильцы, полковники, Бухмистерова Анна Петровна... Нет, я вам скажу: нет хуже жильца, как живописец... — Да уж я вам скажу, — вмешиваются в разговор обыватели, заглядывающие в двери, почуяв скандал, — живописец, он всегда свинья свиньей живет. — Нет хуже ихнего брата, художника... — Просто не приведи бог... — Да я бы их всех, да в Сибирь!.. — Хе, — говорит квартальный, задерживая внимание на изображении нагой натурщицы, — предмет того... игривый. А у этого зачем так под носом черно, табаком, что ли, он себе засыпал? — Тень, — мрачно отвечает Чартков и подходит к окну. Крыши, город, Нева. — Ну, ее бы можно куда-нибудь в другое место отнести, — рассуждает квартальный, — а под носом слишком видное место. — Да разве у него есть какое-нибудь понятие? — неодобрительно поддерживает давно небритый мрачный тип, — мазилы несчастные... — А это чей портрет? Уж страшен слишком. Смолкают толки. Чартков стоит у окна, не оборачиваясь. — Будто он в самом деле был такой страшный; ахти, да он просто глядит. Зашумели вошедшие. Чартков смотрит, как бредут по улицам прохожие, плетутся извозчики. — Эх, какой Громобой! С кого вы писали? — А это с одного... — бормочет Чартков, продолжая смотреть на улицу. В комнате неожиданно слышится громкий треск, падение какого-то предмета, звон. Чартков оборачивается. Под нажимом руки квартального кусок рамы портрета отломился, упал на пол и, вместе с ним вывалились свертки в синей бумаге, из одного посыпались деньги. — Никак деньги зазвенели? — говорит квартальный. Хозяин обернулся на набравшуюся публику: — Чего тут надобно вам, господа хорошие? Позвольте узнать, почтенные? Он мигом выставил за дверь компанию. — А вам какое дело знать, что у меня есть? — спрашивает художник, подымая с пола свертки и монеты. — А такое, — говорит квартальный, — что у вас есть деньги, да вы не хотите платить -вот что. Хозяин, увидев богатство жильца, не прочь уладить историю, он что-то шепчет квартальному. — Ну, я заплачу ему сегодня. — Ну, а зачем же вы не хотели заплатить прежде, — удаляется квартальный вместе с хозяином, — да вот и полицию тоже тревожите? — Потому что этих денег мне не хотелось трогать, — повышает голос Чартков. — Я ему сегодня же ввечеру заплачу и съеду с квартиры завтра же, потому что не хочу оставаться у такого хозяина. Хлопнула дверь за ушедшими. — В Сибирь бы их всех, и все дело... — слышен чей-то голос с лестницы. — Слава богу, черт их унес! — Чартков прислушивается к удаляющимся шагам. Пальцы разворачивают сверток: золотые монеты рассыпаются по столу. В раме портрета, которую рассматривает Чартков — тайник: в одном ее боку выдолбленный желобок, задвинутый дощечкой. — Нет, — говорит Чартков, — чей бы ты ни был, дедушка, а я тебя поставлю за стекло и сделаю тебе за это золотые рамки. Он пересчитывает червонцы, потом ходит по комнате: — Что с ними сделать?.. Теперь я обеспечен по крайней мере на три года, могу запереться в комнате, работать. На краски теперь у меня есть; на обед, на чай, на содержание... Глаза Чарткова загораются, он говорит, еще сам не веря выпавшему на его долю счастью: — Поработаю три года для себя, не торопясь, не на продажу... |
||
В мастерской появились новые вещи; загрунтованные холсты на подрамниках; много чистых кистей и красок; на столе лежит и скромная еда: хлеб, колбаса. Художник занят делом: на палитре смешиваются тона, краски выдавливаются из тюбиков, мазки ложатся на холст. Чартков работает с увлечением, видимо, уже много часов без перерыва. Он не причесан, не брит; в мастерской холодно, пальто наброшено поверх платья. Молодой человек то бормочет что-то под нос, то пробует насвистывать от радости. Талант его очевиден, уже возникают образы будущей картины. День на исходе. Чартков прерывает работу; он с аппетитом закусывает хлебом и колбасой. Никита вносит новый, только что купленный подсвечник, чиркает спичка. И одновременно с тем, как загораются свечи, еле слышно возникает музыка. — Ступай-ка ты, голубчик, прочь, — Чартков дает слуге монету, — уходи себе чай пить или уж не знаю, что делай. — Покорнейше благодарю, — кланяется Никита, — разве уж за ваше здоровье... — Только быстро уходи, — прерывает его Чартков, — мигом, понимаешь?.. Он подходит к кушетке. Заскрипела, хлопнула дверь за слугой. Чартков приподымает подушку. Музыка слышится чуть яснее, лежат синие свертки; художник разворачивает один из них — блеснули золотые. Опять кисть прикасается к полотну. Музыка, не становясь громкой, приобретает определенный характер. Это механические звуки: та же мешанина мотивов, что пробовала свистеть и хрипеть испорченная шарманка на Щукином дворе; теперь эта чепуха набирает силу, бездушную, мертвую звучность. Цвет, которым был написан халат ростовщика, незаметно примешивается к тонам картины. Чартков останавливает кисть, прислушивается. Музыка то усиливается, то затихает, кажется, что ветер с улицы доносит заводную игру какой-то мощной пианолы — машины, придуманной, чтобы исполнять дурацкие галопы, барабанные марши, чувствительные романсы, — но случился просчет в конструкции, и мотивы мешаются, один нелепо налезает на другой; человеческие чувства обессмысленны, опошлены, но вся эта пошлость имеет какой-то ликующий, триумфальный характер. Чартков подходит к окну. Внизу зажигаются фонари. В узких переулках появляются темные фигуры фонарщиков, они идут чуть приплясывающей походкой. Загораются новые огни. Чарткову не работается; приведя себя перед мутным зеркалом в порядок, он выходит на лестничную площадку, колотит в дверь: — А не разговеться ли нам после поста? — спрашивает он мерзнущего в своей каморке Пискарева; на веревке подле печки сушится белье; на стареньком мольберте начатая картина: синие и голубые тона, контуры женского лица. — Это на какие же такие заработки? — недоумевает юноша. — Не твоя забота, — напяливает на него шапку Чартков. — В путь, брат Пискарев, в дорогу! Прямо на Невский... Приближается, чуть приплясывая, перепачканный фонарщик, вспыхивает запал; и другие фонарщики, чуть пританцовывая, выходят из мути переулков; разгораются огни, прибавляется света; щелкнули кнуты, зачмокали, зазывают седоков огромные кучера в кафтанах на вате; расплываются ореолы в тумане; вынырнул из мглы оркестр, пронзительным голосом выкрикнул французскую команду распорядитель, затопали ноги, зажил танцкласс; врывается не к месту хор из трактиров; гул, шум, бессвязные фразы. Идут в нарядной толпе два молодых художника; возникают вывески, витрины торговых заведений; напомаженные приказчики вываливают шикарным жестом на прилавки вещи — самые модные, самые дорогие, только что из всех столиц, все, что можно купить, предлагается, навязывается; восковые куклы в парикмахерских выпучили синие глаза, окаймленные густыми, как щетки, ресницами; безупречно расчесанные, завитые парики; манекены — одни лишь сюртуки и фраки без голов и ног; только панталоны без туловищ; женские наряды, сапоги, туфли, перчатки и манишки — все приближается, поворачивается, выдвигается, выбрасывается на прилавки. Нет ничего живого, одухотворенного — вещи заполняют пространство, витрины полны едой — поросята с бумажными розами в зубах покоятся на серебряных блюдах, громоздятся горы гарниров; фазаны распустили свои райские перья; торчат, как величественные архитектурные постройки, торты; кондитеры выводят цветными кремами замысловатые вензеля и эмблемы. Сияют лампионы, колеблются язычки свечей, витрины, как соборы, украшенные изваяниями бога торговли Меркурия с волшебным жезлом в руке и крылышках на ногах, британского льва, прилегшего у тюков, перевязанных канатами; "Английский магазин Никольса и Плинке", "...часов Г. Блазетти"; над единорогом, нагруженном ящиками: "...золотых и серебряных изделий Б. И. Кохендорфа", "...Барейтера и Ко". Буквы — рельефные, золотые, окруженные замысловатыми орнаментами; плоские с росчерками — то лицевой стороной на вывесках, то обратной — на стеклах витрин, за которыми люди, кареты, громады домов, монументы. Речь французская, немецкая, английская. Мимо всего этого великолепия фасадов столицы проходят Чартков и Пискарев в своих бедных, помятых платьях. Они здесь чужие в нарядной толпе, среди важных лиц и внушительных фигур. Их видно лишь в просвете между экипажами; важные лакеи в цилиндрах и плащах поджидают господ, чистокровные рысаки косят огненными глазами. Что-то нарушающее общий тон входи в цветовую гамму: медленно появляется сбоку причудливый орнамент, в лавке восточных шалей, развернутых на витрине, при особом освещении, появляется цвет, напоминающий халат старика азиата на портрете: за витриной видны идущие Чартков и Пискарев и вдруг Пискарев дергает за рукав приятеля: — Стой! — вскрикивает он. — Видел? Теперь они стоят на фоне витрины; за стеклом ткани с восточными орнаментами, а в стекле отражается толчея прохожих, огни проезжающих экипажей. — Да ты о ком говоришь? — вглядывается вдаль Чартков. — О ней! О той, что в плаще. В просвете между прохожими мелькнуло голубое и синее * — тона картины Пискарева. — И какие глаза! Боже, какие глаза! Все положение и контура и оклад лица — чудеса. Под светом фонаря еще более ярким, сине-голубым кажется возникший на мгновение плащ. — Что ты не идешь за ней, когда она тебе так понравилась? — О, как можно! — смущается Писка рев. — Это, должно быть, очень знатная дама. По черной лакированной плоскости карет проходит отражение сине-голубого плаща. — Простак! — насильно толкает его Чартков. — Ступай, простофиля, прозеваешь! -в последний раз загорелась и исчезла странная яркость и пестрота восточных шалей. Тонкая девичья фигура в сине-голубом ** плаще пропала в толпе прохожих, потом появился неуверенными шагами Пискарев, его грубо толкнули, он идет наперекор движению. * На полях: "светлое". ** На полях: "светлом" |
||
Девушка в плаще свернула в боковую улицу — тут движения меньше. Потом она пошла по набережной канала, мимо чугуной ограды, отражения фонарей колеблются в воде. Пискарев идет, не в силах оторвать от нее глаза. Девушка замедляет походку и как бы невзначай чуть поворачивается к художнику. Решив, что она разгневана преследованием, молодой человек — и без того робкий по натуре — вовсе теряется, он нелепо сворачивает в сторону, принимает неловкий вид, будто он поглощен вывесками на доме, а потом готовится повернуться и уйти в обратную сторону, но желание хоть в последний раз увидеть ее заставляет его посмотреть на нее. В поднявшемся тумане все стало чуть голубым, синеватым. Плащ мелькает за чугунной оградой. Пискарев бросается вперед, но незнакомки больше не видно. Он останавливается посередине улицы поперек движения и, забыв обо всем, оглядывается по сторонам. — Разиня! Провинция! Куда тебя несет!.. — кучера замахиваются кнутами на юношу в бедном платье, важные лица выглядывают из карет. — С дороги, деревенщина!.. Чтоб тебя! — щелкают бичи, кричат, привстав на седлах, форейторы, грозят кулаками лакеи на запятках, мелькают гневные лица, несется ругань, задранные морды коней, сдерживаемых на ходу, осатаневшие псы вырываются из рук хозяек, сидящих в экипажах, чтобы укусить нахала. И вдруг вдали опять синеет плащ незнакомки. Пискарев устремляется за ним, мелькают фонари, вырастают огромные золотые буквы на домах. Незнакомка свернула за угол, и вслед за ней устремился юноша. Боковые улицы, скрипит, закачавшись от ветра, крендель над булочной, девушка придерживает руками полы плаща. Еще не переведя дыхания после бега, Пискарев следует за ней. Темнеют, пустеют улицы, уже нет прохожих, морда быка, наклонившего лоб и выпятившего рога, торчит у входа в мясную лавку; темная полустертая вывеска над подвалом: "Кушанья и чай". Пустынные глухие переулки. Чартков продолжает свою прогулку; стараясь быть незамеченным, он заходит в подворотню, вдали продолжается бесконечный парад столицы. Художник залезает рукой в карман и разжимает пальцы: на ладони — золотые монеты, явь, а не сон. И разом затрещала скороговорка слов: французские пополам с перевранными русскими — портной с балетной легкостью крутится вокруг Чарткова. На старой, мятой рубахе художника появляется бархатный жилет, затем другой, третий... сюртуки сменяются фраками. Немецко-русская речь басом: сапожник опускается на колени и надевает на его грубо заштопанные нитяные носки лакированные полусапожки. Теперь уже ничего не разобрать, кроме многократного повторения: "сэр!"; владелец английского шапочного магазина демонстрирует с ловкостью жонглера цилиндры, приказчик приносит еще более новые фасоны. Чартков уже гладко выбрит, одет по-модному. Как бы из-под земли слышится общий глухой гул шум, рокот голосов, шуршание ног, проезжающих экипажей, пустых фраз — заводным ходом продолжается, не замирая ни на миг, парад столицы, Невский проспект; этот ход время от времени меняет скорости — перемены городского ритма чем-то напоминают смены мотивов в испорченной шарманке на Щукином дворе; весь этот звуковой ряд — иногда только фон, почти не различимый, иногда набирающий силу, приобретающий отчетливость. Молодой художник еще не привык к новому платью: от движения рукой отлетает пуговица, от поворота головы расстегивается воротничок. Он идет по Невскому, одетый так же, как все, в таком же фасоне шляпы, как у всех; на его руках такие же перчатки, как на всех руках. Ему мерещатся ликующие крики: — Какой талант у художника Чарткова! Какая кисть у Чарткова! Виват Чарткову!.. — восторженные приветствия, музыка исполняет туш. Этот морок звуков незаметно выплывает из реальных шумов улицы и бесследно пропадает в них. Дорогой ресторан. За окнами — тоже неостановимое движение. Метрдотель с лицом дипломата склоняется в поклоне и подводит Чарткова к столику. Из-за узкой обуви художник чуть хромает. Появляются лакеи, сверкает сервировка. Не разбираясь в названиях блюд, Чартков тычет пальцем в самые дорогие цены в меню. Подкатывается другой столик, возникает бутылка в серебряном ведре со льдом. * *На полях: "Жрут, пьют. За "сытый Невский". "Н(овьй) В(авилон)". |
||
Важные господа по соседству заканчивают ужин. — Приехал я в столицу, — говорит один,—не в целях пустых развлечений, а чтобы искать приличного своему положению и званию места. — В столице же, любезнейший Ковалев, — со значением говорит другой, — приходится прежде всего, ну, как бы это тебе половчее объяснить?.. — он слегка шевелит пальцами, а потом дотрагивается кончиком указательного пальца до кончика носа, чуть пошевелив при этом ноздрями. Заиграла приятная музыка. — Понимаю, — мгновенно прерывает его Ковалев, — отлично понимаю, бесценный друг, — он с изяществом повторяет те же легкие движения, — держать нос, что называется, по ветру?.. — Вот, вот, а там и почуешь какое-нибудь местечко. — Ну, вроде вице-губернаторского...—намекает Ковалев. Склоняются лакеи; смена тарелок; новые кушанья; вино разливается по бокалам. Негромкий гул голосов, приятная музыка. Чартков приступает к еде: лакей приподымает крышку, над миской вьется пар; художник незаметным движением сбрасывает под столом жмущую туфлю. — Чартков! — раздается в это время возглас. — Ей-богу, Чартков! И как вырядился, голубчик!.. — шумная компания входит в ресторан: все только что из театра. — Значит, успех? — восклицает один из них. — Знакомьтесь, господа: художник Чартков, будущая знаменитость! — поворачиваются головы — Наш уважаемый издатель журнала, так лазать, "законодатель мод"!.. В музыке слышатся все те же странные, обрывистые переходы модных, лихих мотивов. Большой стол. Чартков уже навеселе, командует новыми заказами. Общий шум; доносятся отдельные фразы: |
||
— Как зовут эту молоденькую актрису, ты не знаешь? — Нет, а очень недурна. — Да, недурна; но все чего-то нет. Да, рекомендую: вчера нам подали свежий зеленый горох... — Глупейшая история, — поворачивается к соседу издатель журнала, — проигрался я вчера в пух и в прах. Не ссудишь ли ты меня до четверга? — Да мне самому ничего кроме семерок и валетов не шло. Гол как сокол; ну, а что ты скажешь насчет пьесы? Есть как будто остроумные реплики... — Помилуй, — говорит скучным голосом литератор, — что ж тут остроумного? Что за низкий народ выведен, что за тон?.. — Однако некоторые хвалят... — Да, говорят, живость наблюдения... — Да ведь это все вздор, — вмешивается издатель журнала. — Это все приятели, приятели хвалят, все приятели!.. В зале дымно, музыка слышна громче, вина выпито много. Компания, дымя сигарами, вываливается в вестибюль. Гардеробщики выносят пальто и шляпы; за окнами виден проспект. Чартков изрядно навеселе беседует уже на дружескую ногу с издателем и всовывает ему что-то в руку. — Но только до четверга! — лениво говорит тот, опуская руку в карман и вдруг, взглянув вниз, начинает смеяться. Чартков стоит в одной туфле, на другой ноге — старый, штопанный чулок. Подбегает лакей с туфлей, хохочет компания. Музыка переходит с вальса на галоп, исчезают лица, шляпы, пальто, расплываются кольца дыма, а за стеклом вдали не то выступают какой-то особой походкой, не то танцуют прохожие, напоминающие манекенов, кучера отщелкивают бичами такт, покачиваются в экипажах господа и дамы. Идут, пританцовывая, Чартков, издатель газеты и вся та компания, что, перейдя из одного ресторана в другой, уже изрядно навеселе. Их несколько шатает из стороны в сторону, но они все продолжают свой путь вперед, новые знакомые приподымают шляпы — ритуал встреч и приветствий, и опять пустой, бесцельный ход, покачивающиеся цилиндры и взмахи рук в белых лайковых перчатках, Уходит вдаль, становится едва слышной музыка. Теперь на экране только одно детское, счастливое лицо ничего не понимающего юноши-мечтателя: Пискарев следует за своим прекрасным видением. Он идет, ни о чем не думая, безмерно счастливый тому, что незнакомка позволяет ему сопровождать ее — хотя бы на расстоянии. — Вы оказали мне доверие, — шепчет он, — поверьте, я рабски исполню все ваши повеления... Сменились кварталы; они минуют проходной двор; вырастает четырехэтажный дом. Незнакомка прикладывает к губам палец и скрывается в подъезде. В тишине слышатся легкие шаги по ступенькам, дыхание Пискарева. — Идите осторожнее, — тихо доносится сверху. Он взбегает по вьющейся лестнице. С темной верхней площадки слышится негромкий стук; со скрипом приоткрывается дверь: наполовину видна фигура женщины со свечой в руке. Пискарев вслед за незнакомкой входит в дверь: прихожая, женщина со свечой бросает на него какой-то непонятный взгляд. В следующей комнате женщина раскладывает на столе карты, другая расчесывает длинные волосы гребнем подле зеркала; третья сидит возле фортепьяно. Юноша оглядывается в недоумении. Где-то послышался мужской голос и женский смех, и все стихло. Незнакомка снимает шляпку и плащ. Не понимая долгого молчания Пискарева, она прямым взглядом, значительно улыбаясь, смотрит ему прямо в глаза. — Вы оказали мне доверие, — шепчет он, забыв про обстановку, — поверьте, я понимаю, что какое-нибудь важное происшествие побудило вас ввериться мне... — Что, что?.. — спрашивает незнакомка. — Я сделаю все, что в силах, и поверьте, больше... |
||
Стук стула: другая женщина садится прямо перед его носом и рассматривает его. В это время грянуло расстроенное фортепьяно пустилась в пляс одна из женщин, из коридора высунулся и что-то сказал басом по одетый офицер. — Боже мой, что это все? — спрашивает, Пискарев. Дребезг фортепьяно — та же смена модных мотивов, топот ног, скорчила рожу женщина расчесывающая волосы, раскладываются по столу засаленные карты: дамы, валеты, короли... На стене висит сине-голубой плащ из простенькой материи, с убогими мишурными украшениями и жалкой претензией на наряды, выставленные в витринах. Теперь только одна эта сине-голубая дешевка с грязноватыми позументами занимает экран. Механический инструмент огромной силы подхватывает звуки расстроенного фортепьяно: гремит бессмыслица обрывков мотивов — пародии на человеческие чувства. Лицо Пискарева во весь экран. Юноша идет по улице и плачет так, как плачут дети. Слезы катятся по его щекам, он не вытирает их, идет дальше, вперед, без цели. Оживает столица. Дребезжит телега. Откуда-то с реки возникла далекая песня, похожая на стон; кто-то кряхтит, кашляет, ругается. Маленький чиновник семенящей походкой идет на службу. Он к обращает никакого внимания на плачущего юношу, как никто здесь не обращает внимания ни на кого. Долговязый цирюльник Иван Яковлевич выходит из своего заведения с узелком, где находятся его инструменты. — Да ты только понимай: кого бреешь сухарь поджаристый! — провожает его супруга. — Господин Ковалев у тебя один такой клиент; а я уже от трех человек слышала: что во время бритья так теребишь за носы, что еле держатся... — Да что ты, Прасковья Осиповна, — отвязывается от нее цирюльник, — разве впервые?.. — От тебя пачкуна, пьяницы, бревна глупого все ожидать можно... — доносится обычная, вялая ругань. Написанная на портрете темная старчески рука с набухшими венами минует бедные кварталы и въезжает в богатую часть города. Этот темный кусок картины; написанный старым художником, движется на фоне фасадов домов, снизу доверху покрытых вывесками торговых учреждений, лавок. Появляются аристократические особняки. Распахиваются двери роскошной квартиры: Никита тащит полотна, мольберты, узлы. В другом зале грузчики распаковывают ящики рогожи с дивана и кресел. Мимо больших окон с видом на Невский прогуливаются по начищенному паркету Чартков и только вошедшие дама с дочерью; их сопровождает ливрейный лакей. — Об вас столько пишут, мсье Чартков, — говорит дама, — ваши портреты, говорят, верх совершенства. А где же ваши портреты? — Вынесли, я только переехал еще в эту квартиру, так они еще в дороге... не доехали. — Вы были в Италии? — Нет, я не был, но хотел быть... впрочем, теперь покамест я отложил... Вот кресла; вы устали... — Благодарю, я сидела долго в карете. А, вот, наконец, вижу вашу работу! — в соседней комнате Никита прислоняет к стене этюды и наброски.—C |
||
....... |
||
N.B. ".. сам Григорий Михайлович написал об этом незаконченном сценарии в подготовительных материалах к "Гоголиаде": "Перепечатано пятьдесят страниц сценария. И взяв в пример своего героя, самый раз бросить все это в печку..." (Козинцев Г.М. Собр.соч., т.5, с.295).. " Один из составителей Собрания сочинений Г.М.Козинцева, Я.Л.Бутовский . |
||||||
copyright 1999-2002 by «ЕЖЕ» || CAM, homer, shilov || hosted by PHPClub.ru
|
||||
|
Счетчик установлен 4 мая 2000 - 1390